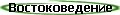|
|
Е. В. Кузин
Христианские общины существуют практически во всех странах Юго-Восточной Азии, однако численность их сравнительно невелика. Всего в современной Азии проживают 73 млн христиан, что составляет около 2 % населения этой части света [1]. Не считая Филиппинской Республики, где преобладает католичество, из азиатских стран только Южная Корея претендует на звание «страны по преимуществу христианской» [2]. В 1989 г. почти четверть сорокамиллионного населения Южной Кореи была христианской (протестанты — 18,6 %, католики — 5,7 %) [3]. По данным переписи 1995 г. христианство впервые опередило буддизм по доле в общем числе верующих корейцев (51,7 и 45,6 % соответственно) [4].
Протестантизм, появившись в стране в 1884 г. (за точку отсчета традиционно берется приезд пресвитерианца д-ра Хораса Аллена), стал спустя столетие второй — после буддизма — религией по абсолютному числу адептов (по переписи 1995 г. — 8 819 тыс.; буддизм — 10 388 тыс.). Однако некоторые неправительственные социологические исследования 1997 г. (Gallup Korea, 1998) уже утверждают, что протестантизм является самой популярной религией Кореи. Более того, в 1989 г. в Корее было 29 820 протестантских церквей, к началу XXI в. их число превысило 60 000, что хорошо иллюстрирует динамичность развития южнокорейского протестантизма.
Особенно интенсивно протестантский прозелитизм проходил параллельно с модернизацией страны в период с нач. 1960-х до конца 1980-х гг. Если в начале 1960-х гг. число южнокорейских христиан едва достигало одномиллионной отметки, то с этого времени оно росло в геометрической прогрессии, практически удваиваясь каждые десять лет. Эти факты выглядят еще более удивительными на фоне Японии — страны с близкими культурно-историческими традициями, где последователи христианства составляют менее 1 % населения.
В последнее время, когда активизируется деятельность корейских протестантских миссионеров за пределами страны (в частности, с 1980-х гг. на российском Дальнем Востоке и в Сибири), возрастает актуальность исследований, связанных с сущностью корейского протестантизма.
Итак, корейский протестантизм. Корректно ли использование этого термина? Понятие «корейский протестантизм» уже давно утвердилось в аутентичной корейской и англоязычной традициях, хотя большинство отечественных исследователей воздерживается от его использования. Это связано с тем, что отечественная историография вопроса, представленная преимущественно работами А. Н. Ланькова и Г. Н. Кима, концентрируется на изучении исторических событий, сопровождавших утверждение христианства в Корее. Новейшие западные и корейские работы [см. ссылку 4], напротив, посвящены прежде всего современному состоянию христианства в этой стране.
Нам кажется наиболее продуктивным синтез этих подходов для достижения следующей цели: изучив процесс формирования и сущность «корейского протестантизма» сформулировать основные тенденции его развития. Это, в свою очередь, даст возможность в дальнейшем прогнозировать будущее протестантизма на корейской почве и перспективы прозелитской деятельности корейского протестантского миссионерства в Сибири.
Используя термин «корейский протестантизм», мы заявляем первую гипотезу работы — такое явление существует, и оно достаточно своеобразно, чтобы выделять его в отдельную категорию.
Для любой классификации необходима теория, в рамках которой и будет идти упорядочивание фактов. Для создания периодизации христианизации Кореи мы выбрали теорию традиций и инноваций С. А. Арутюнова. В своей работе «Народы и культуры» он выделяет следующие этапы зарождения и развития инноваций: селекция; воспроизведение, или копирование; приспособление, или модификация; структурная интеграция [5].
Селекция (в случае внешних инноваций) заключается в отвергании одних импульсов и отборе других для последующего усвоения или переработки. Перед нами встает вопрос: является ли пригодность христианства корейскому обществу безусловной или она детерминирована целым рядом исторических и социальных предпосылок? Г. Н. Ким считает, что первые шаги христианства на корейской земле были сделаны задолго до первых католических миссионеров. Опираясь на исторические свидетельства несторианской проповеди в столице Танского Китая и следы несторианской идеологии в Японии, он утверждает факт знакомства, по крайней мере элиты Силла с этой религией [6]. Но, по-видимому, знакомство было недолгим — несторианство не оставило о себе никаких упоминаний. Этот импульс был отвергнут корейским обществом, хотя было ли это неприятие народом или властной верхушкой, не известно. Но может быть протестантизм идейно близок корейскому менталитету? В сознании рядовых членов корейского общества зафиксирована уверенность, что победы протестантизма обусловлены его необходимостью для успешного развития капитализма. Однако приводить примеры стран, как западных, так и восточных, в которых капитализм развился без протестантизма, можно довольно долго. Вспомним хотя бы уже упоминавшуюся Японию — вторую по масштабам экономики страну мира. На наш взгляд, успехи протестантизма в Корее на этапе селекции нужно объяснять динамичностью прохождения этого этапа: 1) он быстро сменился воспроизведением инновации в период японского колониального режима; 2) с самого начала пошел процесс приспособления, взаимодействия протестантизма с существовавшей культурно-религиозной традицией.
Воспроизведение инновации понимается Арутюновым как «простое копирование, без попыток, сколько-нибудь органической интеграции и серьезной трансформации» [7]. Трудно выделить в периодизации протестантской христианизации Кореи такой этап в чистом виде, поскольку, как мы уже сказали, модификация этой религии началась с первых дней ее появления. Но если говорить об активном включении инновации в культуру, начале ее использования, когда от нее еще легко отказаться в случае изменения условий, то воспроизведение проходило при японском колониальном режиме (1910-1945 гг.).
Японское вторжение и сформировавшийся после него режим привел к осознанию необходимости объединения. В то же время внешняя угроза подняла общую религиозность населения (речь идет о психологическом явлении массового ожидания конца света). Конфуцианство же вообще является религией консервативной, идеально подходящей для охранения власти, государственного устройства, социальной структуры. В то же время не было отрицательного мнения о христианстве, подобного тому, которое существовало в Китае, раздираемом на сферы влияния, где христианство ассоциировалось с действиями западных правительств и рассматривалось как религия врагов.
В Корее гонимые правительством и потому существовавшие подпольно христианские общины смогли выжить и в годы японского нашествия, стали центрами антияпонских настроений, освободительного движения. А. Н. Ланьков утверждает, что «в двадцатые и тридцатые годы … оно (христианство в Корее. — Е. К.) окончательно стало восприниматься как национальная религия, потеряв тот оттенок „западности“ и „чуждости“, который был характерен для него поначалу» [8]. Если следовать избранной нами теории, то это заявление, очевидно, несколько торопит события. Возможно, в годы японского колониального владычества была сломана стена чуждости, отделявшая широкие слои корейского народа от новой религии, но говорить об ее осознании как национальной еще рано. Для осознания инновации как традиции необходима полная смена того поколения, которое вводило инновацию в культурный оборот, а для полной интеграции в традицию еще и смена того поколения, которое помнит введение инновации по рассказам родителей. Срок полной смены двух поколений оценивается С. А. Арутюновым примерно в 100 лет, поэтому только сейчас правомерно ставить вопрос о том, включен ли протестантизм в комплекс традиций корейского общества.
Модификация инновации — тот процесс, который, на наш взгляд, требует наиболее пристального внимания. В Корее утверждение протестантизма сопровождалось установлением глубоких связей между ним и традиционными мировоззрениями. Продуктивным изучением сложившегося синтеза занимаются сторонники популярной в англоязычном корееведении теории «шаманизированного христианства» (shamanized Christianity). Так, Э. Ким (Andrew E. Kim) в работе «Корейская религиозная культура и ее родство с христианством» пишет: «миллионы жителей Южной Кореи с готовностью приняли христианство именно потому, что новая вера выдвигалась как расширение или продолжение корейской религиозной традиции» [9] (под традицией понимается в большей мере шаманизм и в некоторой степени конфуцианство).
В корейском христианстве автор выделяет следующие точки сближения с традицией: акцент на посюстороннем мире, понятие Хананим (всеведущего, всесильного и всемогущего верховного божества), образ Бога как спасителя в конкретных жизненных ситуациях, важность «излечения верой», центральная роль этических и семейных ценностей. Важно подчеркнуть, что эти пункты рассматриваются не как доказательство общности христианства и шаманизма, а как результат целенаправленной деятельности христианских миссионеров в Корее, так расставлявших акценты в христианском учении, что оно становилось доступнее человеку традиционного общества, ориентированного на родовую солидарность и пантеизм. Поскольку речь идет о жизненно важных для христианства догматах, то можно утверждать, что в корейском обществе имело место очень глубокое взаимодействие и взаимопроникновение традиционных корейских верований и протестантизма.
Для описания сути этого своеобразного явления мы предлагаем использовать категории «маятниковой» теории П. Сорокина, толковавшего развитие истории как чередование идеациональных и чувственных парадигм развития общества [10]. В данном случае мы будем говорить о типах восприятия религии: чувственном, при котором религия воспринимается как средство получения успеха в посюстороннем мире; и идеациональном, когда религия направлена на мир потусторонний, а ее приверженцы стремятся к награде и боятся возмездия после смерти.
Новая религия возникает на уровне идеациональном, когда у веры минимум рациональных оснований и постепенно угасает до чувственного, материалистического, когда верующий требует немедленного вознаграждения за веру. Применяя эту схему к Корее, мы видим чередование следующих этапов: чувственный — магический шаманизм, идеациональный — буддизм и раннее конфуцианство, чувственный — догматизированное конфуцианство и неоконфуцианство.
Христианство возникает и утверждается в Корее как идеациональная религия, к примеру, в ходе японской оккупации; однако очень быстро превращается в фактор политической борьбы [11] и способ решать проблемы в бизнесе с помощью высших сил. Эти изменения в характере религии имели своей причиной раннюю компромиссную политику протестантизма по отношению к религиозной прагматике шаманизма и конфуцианства. На наш взгляд, именно такая политика явилась основой успешного протестантского прозелитизма и соответственно причиной эффектного взлета популярности протестантской веры в Корее XX в.
Перейдем, наконец, к методологически важному этапу — структурной интеграции инновации в системе культуры этноса. Многочисленные примеры полной интеграции — армянское монофизитство, ирландский католицизм и др. — относятся часто к сфере межконфессионального взаимодействия. Суть этого этапа — «инновация перестает осознаваться как таковая и превращается в органическую часть этнической культурной традиции». Ярким примером интеграции новых религиозных воззрений в структуру традиционных национальных притязаний Кореи на значительную роль в современном мире является популярная в последнее время идея мессианства корейского народа. Так, проповедники Церкви объединения подробно доказывают, почему второе пришествие Мессии осуществится именно на корейской земле [12]. Это ярко свидетельствует о понимании христианства как незыблемого элемента культуры современной Кореи.
В то же время своеобразие корейского протестантизма заключается в его максимальной ориентации на жизнь до смерти. Если в традиционных протестантских церквях достижение человеком материального и семейного благополучия рассматривается как средство к осознанию своего спасения (а не к «зарабатыванию» его, как в католичестве накануне Реформации), то корейские протестанты, судя по данным опросов, ставят на первое место материальные ценности и в последние годы также здоровье, а не спасение и вечную жизнь. Многие признают, что идут в церковь, поскольку это улучшит общественное мнение о них или рассчитывают на непосредственное вознаграждение от Бога — излечение, прибыль и т. д.
Протестантизм ли это? Термин «протестантизм» не несет позитивного смысла, его коренное значение — протест против стяжательства католической церкви. Определенно, корейские христианские церкви не соответствуют учениям Лютера или Кальвина. Тем не менее они, пожалуй, имеют право называться протестантскими не только генетически но и по сути. Так с чем же мы столкнемся в лице корейского протестантизма: с новой протестантской церковью, христианской ересью или идеально подходящей современному рационалистическому миру рациональной религией?

|
Литература
1. Kim Andrew E. History of Christianity in Korea: from Its Troubled Beginning to Its Contemporary Success // Korea Journal. Vol. 35. № 2. 1995.^
2. Ланьков А. Н. Корейское христианство: страницы истории // www.koreana.ru
3. Хангук сахве чипхё: 1993 (Корейские социальные показатели: 1993) Сеул, 1994. Цит. по: Ланьков ^
А. Н. Христианство в Корее // Проблемы Дальнего Востока. 1999. № 2.^
4. Данные Национального статистического агентства Республики Корея, приводимые, в частности, в: Kim Eungi. Religion in Contemporary Korea: Change and Continuity // Korea Focus (On Current Topics). Vol. 11. № 4.^
5. Арутюнов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М., 1989.^
6. Христианство // Ким Г. Н. История религий Кореи. Алматы, 2001.^
7. Арутюнов С. А. Народы и культуры… С. 174.^
8. Ланьков А. Н. Христианство в Корее…^
9. Kim Andrew E. Korean Religious Culture and Its Affinity to Christianity: The Rise of Protestant Christianity in South Korea // Sociology of Religion. Summer, 2000.^
10. См., например: Сорокин П. Кризис нашего времени // Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М. , 1992.^
11. Мазуров В. М. Политическое лидерство в многоконфессиональном южнокорейском обществе // Республика Корея: опыт модернизации. М., 1996.^
12. Божественный принцип. Учение преп. Мун Сон-Мёна^
Научные руководители — канд. ист. наук, И. В. Октябрьская,
канд. ист. наук, доц. С. А. Комиссаров.
|
|