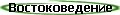|
|
М. С. Лютова
На рубеже ХХ-ХХI вв. сотрудничество Японии и Китая, по сравнению с предыдущей эпохой, получило значительное развитие во многих областях. Основной сферой сотрудничества по-прежнему остается экономика. Обе стороны в настоящее время одинаково заинтересованы в продолжении экономического сотрудничества: бедной собственными природными ресурсами Японии необходимо дешевое сырье, которое частично поставляет Китай, а КНР, в свою очередь, заинтересована в экспорте капитала и технологий Японии.
И все же в отношениях между этими двумя странами наряду с тесным взаимодействием наблюдается и непримиримое соперничество, упорное желание каждой стороны занять более выгодную позицию, не допустить экономического усиления соперника. Подобное противодействие связано с борьбой за лидерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР): Япония не желает уступать место лидера стремительно наращивающей темпы экономического роста КНР.
Экономическое усиление неизбежно влечет за собой и усиление политическое, и, возможно, подобная борьба за лидерство между Японией и Китаем приведет к дестабилизации ситуации в АТР и мире в целом. В русле развития данной ситуации актуальным является подробное рассмотрение проблем, встающих на пути мирного взаимодействия этих стран. Определенного внимания заслуживает территориальный спор о принадлежности островов Сэнкаку (Дяоюйтай), поскольку в настоящее время данный спор затрагивает не только сугубо юридический вопрос об установлении границ между государствами, но также имеет экономическую и этносоциальную составляющие.
Ситуация в АТР способна оказать влияние на стабильность мировой системы в целом, а Япония и КНР являются сильнейшими странами региона, поэтому от мирного характера их взаимодействия зависит не только благополучное существование данных стран, но и многих других государств мира. Правительства обеих стран сознают необходимость мирного урегулирования вопроса, но при этом ни одна из сторон не только не хочет идти на уступки, но и в переговорных процессах и Япония, и Китай стараются обойти стороной спорную проблему, избегая подробного обсуждения и предоставляя ее решение следующим поколениям. Бесперспективность подобного подхода очевидна, так как проблема территориальной принадлежности существует уже давно, ожесточенные споры начались еще в начале 1970-х гг. и продолжаются до сегодняшнего дня. В таких условиях представляется важным более подробное изучение данного вопроса, анализ его различных составляющих.
В конце 60 — начале 70-х гг. появились предпосылки возникновения конфликтов между Китаем и Японией по поводу территориальной принадлежности островов Сэнкаку.
Первоначально повышение интереса к этому территориальному спору было вызвано информацией о значительных запасах нефти, имеющихся в районе островов, впоследствии же эта проблема наряду с экономической составляющей приобрела также этносоциальную окраску. В процессе модернизации экономики, наращивания темпов экономического роста, КНР начала не только приобретать политический вес в регионе, но и постепенно увеличивать свои амбиции и претензии на получение статуса лидера в АТР. Почувствовав свою мощь, Китай в силу своих амбиций и экономических выгод не откажется от островов в пользу Японии безоговорочно. Причем в данном вопросе КНР поддерживают и Тайвань, и Гонконг, и Макао, выступающие единым антияпонским фронтом. Для всех этих стран важным является утверждение прав на Сэнкаку не просто КНР, а Китая вообще, так называемого «Большого Китая». КНР с этих позиций выступает как представитель общекитайских интересов. Краеугольным камнем в данном вопросе являются значительные запасы нефти и газа, обнаруженные на шельфе Восточно-Китайского моря в середине 1960-х гг. В 1968 г. исследовавшие Восточно-Китайское и Желтое море экспедиции представили отчет, в котором отмечалась «высокая вероятность наличия на континентальном шельфе между Тайванем и Японией, возможно, одного из богатейших месторождений нефти» [1]. По результатам проведенных исследований данный район, включая территорию островов Сэнкаку, был оценен экспертами как один из пяти крупнейших нефтеносных районов мира. Ресурсы шельфа по примерным подсчетам колеблются от 11, 2 млрд до 45 млрд баррелей. Вопрос о возможности разработки данной области и добычу сырья остается открытым, так как право на освоение шельфа и добыче нефти в районе Сэнкаку оспаривается и Японией, и Тайванем, и Южной Кореей, и КНР.
Первые шаги на пути уже возможной добычи ресурсов были сделаны японскими предпринимателями: в марте 1969 г. были посланы первые заявки на получение лицензии для пробного бурения. Незамедлительно последовала реакция тайваньской стороны: в июле того же года. Тайбэй заявил о правах на эксплуатацию запасов нефти в районе островов Сэнкаку на основании «Конвенции о континентальном шельфе» от 1958 г. В результате подобной политики Токио решил активизировать свои действия по подтверждению суверенитета над островами Сэнкаку, и в 1970 г. власти Окинавы выступили с официальным заявлением о вхождении островов Сэнкаку в административные границы префектуры Окинава, а также объявили о создании собственной нефтяной корпорации.
В отношении совместного освоения шельфа также были предприняты некоторые шаги: было объявлено о создании трехсторонней комиссии по освоению шельфа, в нее вошли Япония, Южная Корея и Тайвань, но эта попытка была безрезультатной, так как уже 4 декабря 1970 г. Пекин заявил о своих правах на острова Сэнкаку. Подобное беспрекословное заявление правительства одного из самых заинтересованных участников спора разрушило все попытки мирного взаимодействия в вопросе освоения шельфовых запасов Восточно-Китайского моря и положило начало противостоянию сторон, не желающих идти навстречу друг другу, а данный спор приобрел характер «устойчиво неподатливого» [2].
Причины напряженной ситуации, возникшей в начале 1970-х гг., обусловлены не только экономическими интересами сторон, но и более реальной угрозой утраты возможности присоединения архипелага к китайской территории. Тревога китайской стороны была вызвана готовящимся соглашением между Японией и США о передаче прав на острова Сэнкаку Токио, подобный акт не столько свидетельствовал о признании США приоритета Японии в данном вопросе, сколько о нежелании американского правительства открыто заявлять о своей позиции в данном вопросе, поддерживая какую-либо из сторон. Позиция правительства США по отношению к Японии была подтверждена позже, при заключении в феврале 1972 г. совместного коммюнике с КНР американская сторона подчеркнула, что «США дают самую высокую оценку своим дружественным отношениям с Японией и они будут продолжать развивать существующие тесные узы» [3].
В подобной ситуации Пекин, не желая обострять отношения в регионе и открыто демонстрируя свое отношение к предстоящему японо-американскому соглашению, предоставил ведущую роль Тайбэю.
17 июня 1971 г. непосредственно перед ратификацией японо-американского соглашения Министерство иностранных дел Тайваня выступило с официальным протестом против подписания подобного документа, так как, по заявлению тайваньской стороны, передача островов Сэнкаку Японии невозможна, поскольку они являются частью китайской территории [4]. Однако несмотря на протест Тайваня соглашение о передаче островов Японии в июне 1971 г. было подписано. Согласно этому соглашению острова Сэнкаку были включены в перечень переданных Японии территорий, которая с того времени осуществляет над ними контроль.
Пекин между тем обозначил свою реакцию на данные «незаконные» действия японского правительства: 30 декабря 1971 г. последовало заявление МИД КНР, в котором утверждалось, что данные острова представляют собой «неотъемлемую часть территории Китая» [5]. Японская сторона не оставила эти заявления без ответа, который являлся достаточно однозначным: 6 января 1972 г. было принято другое соглашение, по которому Япония взяла на себя ответственность за оборону Сэнкаку: прибрежные воды стали патрулироваться кораблями береговой охраны. Подобными действиями японская сторона явно обозначила намерение отстаивать территорию Сэнкаку силой оружия. Китай, сознавая в данный момент свое бессилие как-либо воспрепятствовать действиям Японии, разразился в ответ лишь очередными заявлениями: агентство Синьхуа 13 января 1972 г. объявило протест по поводу «алчных устремлений реакционного правительства Сато к аннексии китайской территории», подчеркнув, что «китайский народ ни в крем случае не допустит этого» [6].
В 1971-1972 гг. китайская сторона ограничилась протестами и заявлениями против действий Японии только потому, что в данный период приоритетным вопросом для Китая была необходимость дипломатического признания со стороны Японии. В связи с этим стали возможными последующие переговоры между премьер-министром Японии К. Танака с премьер-министром КНР Чжоу Эньлаем, проблема спорных территорий же на некоторое время отошла на второй план.
К. Танака нанес официальный визит в Пекин в сентябре 1972 г. с целью подписания совместного коммюнике о восстановлении дипломатических отношений между Китаем и Японией. Проблема островов Сэнкаку на переговорах не обсуждалась, так как при попытке японским представителем поднять этот вопрос Чжоу Эньлай, осознавая, что на данный момент КНР не сможет реально противостоять Японии, а также помня о приоритете экономического сотрудничества, тактично обошел этот вопрос: «Не будем здесь об этом спорить. Ведь это всего лишь крохотные точки, которые даже трудно заметить на географических картах. Они стали проблемой только потому, что вокруг них была найдена нефть» [7].
Таким образом, дипломатические отношения между двумя странам были восстановлены и территориальная проблема не помешала мирному ходу переговоров, однако подобное «мирное единодушие» диктовалось политическим расчетом обеих сторон: в Совместном коммюнике существовал пункт о последующем принятии странами договора о мире и дружбе, имевший очевидную выгоду для обеих сторон.
В 1970-е гг. для правительства КНР было важным укрепление существующего режима путем нормализации отношений с США и Японией, а ни в коем случае не путем конфронтации и агрессии против Японии. Для успешного противостояния Японии и США КНР не имела ни достаточной военной, ни экономической мощи, тем не менее о возможности подобного успешного противостояния в будущем руководство Китая не забывало.
Япония, в свою очередь, также не стремилась поднимать данную проблему. В частности, на это указывает тот факт, что в 1977 г., когда в мире устанавливались 200-мильные экономические зоны, Япония отложила вопрос о своих правах на зоны в районе Сэнкаку, чтобы не спровоцировать очередной конфликт.
В соответствии с заинтересованностью Японии и Китая в подписании Договора о мире и дружбе в 1974 г. правительство КНР открыто предложило японской стороне не касаться проблемы островов Сэнкаку на переговорах, на что из Токио ответили согласием, однако китайская сторона добавила, что «тщательно обсудит вопрос о Сэнкаку после заключения договора» [9]. Тем не менее последующие события опровергли все миролюбивые заверения КНР.
12 апреля 1978 г. к Сэнкаку подошла китайская флотилия, включающая, по разным источникам, до 140 судов, на которых были выставлены транспаранты с надписями: «Сэнкаку — территория Китая». Часть судов была вооружена крупнокалиберными пулеметами. 15 апреля МИД КНР была вручена нота с требованием вывести суда из территориальных вод Японии. Требование японского правительства было выполнено, а китайская сторона в оправдание своих действий заявила, что это были всего лишь рыболовные суда и подобный инцидент возник по вине рыбаков, «гнавшихся за рыбным косяком» [10]. Однако явно агрессивный настрой правящих кругов КНР подтверждается также информацией о том, что командование ВМС НОАК планировало провести в районе Сэнкаку военные учения, но этот план был отвергнут Дэн Сяопином как явно провокационный.
Наиболее вероятной причиной подобной «демонстрации силы» со стороны КНР явились предшествующие подписанию договора дебаты в правящей партии Японии, так как в правительстве существовало немало противников подписания договора с КНР. Однако, желая подобными действиями ускорить процесс подписания договора, китайская сторона могла добиться и противоположной реакции в Токио, т. е. полной ликвидации возможности подписания договора о мире и дружбе. Следует отметить, что расчет Пекина на то, что японская сторона постарается сгладить этот инцидент, оказался точным, так как для Японии заключение данного соглашения было также выгодным, и японское правительство не стало раздувать конфликт, наоборот, реакция в Японии на подобное поведение Китая оказалась достаточно миролюбивой «в значительной степени благодаря требованием широкой общественности, выступавшей тогда за скорейшее восстановление двусторонних отношений, за развитие широкомасштабных отношений с КНР во всех областях, включая экономическую, политическую и гуманитарную» [11].
12 августа 1978 г. в Пекине министры иностранных дел Японии и КНР подписали Договор о мире и дружбе, вопрос о решении территориального спора все же удалось отложить. Комментируя данный факт, вице-премьер КНР Дэн Сяопин заявил: «Существуют разногласия во взглядах двух сторон по вопросу об островах Сэнкаку. Обе стороны договорились не поднимать его в ходе переговоров о Договоре о мире и дружбе. Я считаю, что нам лучше обойти его во время переговоров между двумя странами… Этот вопрос можно отложить даже лет на десять. У нашего поколения недостает мудрости. Следующее поколение будет гораздо мудрее. Они найдут решение, которое устроит всех» [12].
Однако в действительности «откладывание» вопроса еще не означало полный отказ сторон от каких-либо мероприятий по освоению островов Сэнкаку. В 1979 г. правительство Японии проводит очередные исследования на архипелаге, в ответ на это Пекин предложил объединить действия по освоению островов. Япония же, не отказываясь от совместных действий во избежание негативной реакции со стороны КНР, на деле не предпринимала никаких реальных шагов для сближения, а наоборот, прикрываясь видимостью полного согласия с китайской стороной, поощряла окинавских предпринимателей, активно осваивающих ресурсы островов. В 1981 г. была даже создана специальная Комиссия по освоению нефтяных ресурсов в районе Окинава и Сэнкаку. Заинтересованность обеих стран в возможной разработке нефтяных месторождений шельфа Восточно-Китайского моря очевидна, так как Япония в тот период испытывала потребность в нефтяных ресурсах, а для КНР было выгодно поставлять в Японию больше нефти также потому, что китайская нефть для Японии была бы более дешевой, и Япония соответственно охотнее вывозила бы ее из Китая, чем из стран Ближнего Востока. В 1982 г. Китай занимал пятое место среди стран, экспортирующих в Японию нефть, и ряд западных исследователей, в том числе Р. Тэйлор, полагали, что «японо-китайская торговля в ближайшие десятилетия приобретет еще больший размах, причем КНР будет в первую очередь импортировать из Японии оборудование для добычи таких полезных ископаемых, как нефть и уголь, а японцы — импортировать из Китая нефть и уголь» [13]. Следовательно, параллельно с возрастанием объема торговли между двумя странами, возрастет и интерес к возможным источникам нефтяного сырья, это еще раз подтверждает тот факт, что ни Япония, ни Китай не откажутся от утверждения своих прав на острова Сэнкаку.
В конце ХХ в. в японо-китайских отношениях обозначилась новая тенденция: на повестку выходит вопрос о гарантиях безопасности обеих стран. По мнению японского исследователя Р. Кокубуна, с 1972 г. в области безопасности отношениям Японии и Китая способствовал ряд факторов, одним из наиболее значительных являлось «существование СССР, общего объекта противостояния, а также всесторонняя поддержка этих отношений со стороны США» [14]. В 1990-е гг. этот фактор, как и многие другие, в связи распадом СССР потерял стабилизирующее значение для японо-китайских отношений. Со времени окончания «холодной войны» все большее значение исследователи придают именно военно-политическому фактору японо-китайских отношений. Так, А. Федоровский в своей статье «Азиатская гонка вооружений и Япония» отмечает: «Страны Восточной Азии интенсивно расширяют свой военно-промышленный потенциал, что связано с внутренними политическими и социально-экономическими процессами, борьбой за доступ к современным технологиям, а также конкуренцией за новые рынки сбыта. Последствия этого процесса могут быть гораздо менее предсказуемыми и более опасными, чем в Восточной Европе и странах СНГ» [15]. Таким образом, А. Федоровский указывает на то, что в последнее время значительно возросли военные расходы Пекина, «амбиции Пекина в области военной индустрии хорошо известны и давно приковывают к себе внимание стран АТР, которые, кстати, сами быстро увеличивают военные расходы и производство оружия, военной техники и боевого снаряжения» [16]. Япония не входит в число этих стран, но исследователи обращают внимание на тот факт, что хотя в 1976 г. Японией и был введен полный запрет на экспорт оружия, но ряды сторонников отмены данного запрета все возрастают. Примечательным является и следующее замечание бывшего начальника Управления национальной обороны эксперта ЛДП Ц. Кавары: «Период „холодной войны“ закончился. Нам приходится отвечать на многие новые вопросы, ввиду чего действительно стоит задуматься о том, что делать дальше, в том числе изучать возможность пересмотра принципов экспорта оружия» [17].
Становятся ясными стремления обеих сторон ограничить себя от возможной опасности со стороны соседа. Вследствие этого Китай постепенно наращивает вооружение, и Япония уже не желает рассчитывать лишь на помощь со стороны США, так как она не отрицает возможности возникновения опасности со стороны КНР, на это указывает и «иерархия угроз» для Японии, которая в начале 1990-х гг. выстраивалась следующим образом: Россия, «Корейский узел», Китай. Причем одним из возможных поводов для возникновения напряжения является проблема спорных территорий [18].
Поворот к более активной политике в военно-политическом вопросе повлиял и на проблему островов Сэнкаку: в 1990-е гг. стороны уже не ограничиваются «нотной дипломатией», а прибегают к более решительным, а иногда и явно провокационным действиям.
Так, 29 сентября 1990 г. японская сторона заявила, что управление безопасности на море готово признать маяк, построенный на одном из островов Сэнкаку, в качестве официальной навигационной точки. В Тайбэе объявили протест против данного заявления. В Пекине же подобные действия японского правительства расценили как нарушение суверенных прав КНР и практически сразу отошли в тень, предоставляя свободу действий «по урезониванию» Японии тайваньским активистам. В октябре того же года прибывшие на двух судах тайванские активисты попытались высадиться на одном из островов, эта попытка была пресечена японскими силами самообороны, в ответ на что МИД КНР потребовало «немедленно прекратить нарушение китайского суверенитета над островами и прилегающими водами» [19]. В гонконгской прессе появились статьи, осуждающие действия Японии. Все это свидетельствует о том, что в октябре 1990 г. «большой Китай» опять выступил единым антияпонским фронтом, забыв о внутренних противоречиях, в частности о «тайваньской проблеме». Подобное «единство интересов» только еще больше осложняет конфликт, вовлекая в него все больше участников. Однако благодаря поддержке Тайваня, Гонконга и Макао заметно крепнут позиции КНР, причем не только политические, но и экономические, что вызывает значительное беспокойство в Японии. Несмотря на это в Токио хотели решить проблему мирным путем и 30 октября 1990 г. представители посольств в Токио и Пекине заявили, что стороны согласны прекратить открытый спор.
Однако доброжелательный настрой обеих сторон исчез уже в 1995 г. в связи с ядерными испытаниями Китая, которые вызвали негативную реакцию во всем мире, а тем более в Японии, обеспокоенной такой демонстрацией силы со стороны крепнущего Китая. Японское правительство, в свою очередь, решило продемонстрировать свою силу в отношении вопроса спорных территорий: Министерство внешней торговли и промышленности Японии объявило о «пересмотре прежней политики» в вопросе о разработке месторождений нефти и газа в районе островов Сэнкаку. В подкрепление данному заявлению «Управление национальной обороны Японии провело совместные японо-американские учения для отработки действий по обороне этих островов» [20], тем самым давая понять КНР, что острова являются частью территории Японии, которую она готова отстаивать даже силой оружия. До 1995 г. Япония не решалась столь явно демонстрировать свою готовность в случае необходимости идти на вооруженный конфликт с Китаем, но в связи с все возрастающей мощью не только КНР, но и всей группы стран «Большого Китая», Япония стала обозначать свои права на территорию Сэнкаку все более настойчиво. Такая позиция отразилась и в заявлениях высокопоставленных японских чиновников и членов правящей партии, в частности первый заместитель министра иностранных дел г н Хаяси достаточно категорично заявил: «Никакого территориального вопроса не существует. Не существует и вопроса о том, что он когда-либо откладывался на будущее» [21]. Этой же позиции придерживался и премьер-министр Хасимото: «Мы подтверждаем наши исключительные права на территории, где мы осуществляем реальное управление» [22]. Подобные заявления, естественно, не могли не вызвать отрицательной реакции пекинского руководства.
Кульминационным моментом в развитии конфликта между Японией и Китаем явились события 1996 г.: 20 июля Япония ратифицировала конвенцию ООН по морскому праву, установив 200-мильную экономическую зону, включавшую и территорию островов Сэнкаку, хотя, как отмечает Кацуцугу Есида: «обычной практикой является не определять исключительные морские экономические зоны в районах, где существуют столкновения интересов стран» [23]. Причем Министерство сельского хозяйства, рыболовства и лесоводства Японии подчеркнуло, что это положение необходимо применить «полностью и всесторонне» [24], тем самым обозначая свою зону владений и заявляя о решимости пресекать всяческие попытки иностранных государств по добыче ресурсов на территории, принадлежащей Японии. Следующее событие, вызвавшее большой общественный резонанс, было связано со спором, возникшим вокруг маяка на одном из островов. 14 июля 1996 г. группа японцев, принадлежащих к ультраправой Лиге японской молодежи (Нихон Сэйнэнся), заменила полуразрушенный маяк. Затем члены Лиги обратились к Управлению безопасности на море Японии с просьбой утвердить этот маяк как официальный навигационный знак. На этот раз реакция Пекина была бурной. Спикер МИД КНР Шэнь Гофан заявил, что правительство Японии несет полную ответственность за действия организации Нихон Сэйнэнся и «призвал проявлять осторожность в отношении односторонних действий, которые могут раздуть конфликт» [25]. Не менее была возмущена и китайская общественность, требовавшая решительных действий против Японии, в частности военному руководству страны была послана петиция с требованием послать в район Сэнкаку военные корабли и уничтожить маяк. Однако до принятия столь радикальных мер дело не дошло, так как маяк вскоре был разрушен тайфуном и 9 сентября члены организации Нихон Сэйнэнся начинают работы по его восстановлению. Со стороны КНР опять последовал протест против действий японских «националистов», японское правительство было предупреждено, что если и на этот раз не будет принято никаких решительных мер, то ответ последует незамедлительно. И в подтверждение этих слов 13-14 сентября в провинции Ляонин части НОАК провели военные учения по отработке маневра высадки на остров, тем самым предостерегая Японию.
Японское правительство действительно не предпринимало никаких действий против членов ультраправых организаций, которые, по некоторым данным, находились под покровительством крупнейшего гангстерского синдиката «Сумиеси». И хотя правительство Японии и заявило, что оно не имело никакого отношения к установлению маяка, тем не менее оно не предпринимало никаких мер по прекращению восстановительных работ. Однако урегулировать возникший конфликт было необходимо, и на встрече в Нью-Йорке 24 сентября 1996 г. министры иностранных дел Японии и Китая договорились «о мерах по предотвращению действий ультраправых групп по эскалации конфликта» [26]. Китайский представитель потребовал также ликвидировать маяк на Сэнкаку, но министр иностранных дел Японии дипломатично отклонил это требование, пообещав лишь не признавать маяк в качестве официального навигационного знака, тем самым и удовлетворив требования китайской стороны, и не вызвав значительных протестов со стороны ультраправых организаций.
Более масштабной и бурной была реакция китайской общественности, а также жителей Тайваня, Гонконга и Макао. Осенью 1996 г. прошел ряд антияпонских демонстраций в Гонконге и Макао, создавались организации «Защитников Дяоюйтай». Даже в 1997 г. береговая охрана Японии пресекала попытки «патриотов Китая» высадиться на островах Сэнкаку. Подобным объединением сил было встревожено и японское правительство, высказывались мнения, что «шумиха вокруг Сэнкаку, объединившая на этнической основе различные политические силы, возможно, поддерживается теми, кто стремится заложить основы будущей «сферы „Большого Китая“» [27]. Действительно, опасения Японии имеют ряд оснований: по мнению О. Арина, угроза Китая для Японии заключается в «формировании китаецентристской культуры, претендующей на цивилизационную миссию мирового масштаба» [28]. Возможно, автор несколько преувеличивает значение «китайской угрозы», однако в экономическом отношении значение данной группы стран все возрастает, и именно этот значительный потенциал «сферы Большого Китая» вызывает беспокойство у ведущих мировых держав, в том числе у Японии. Беспокойство это небезосновательно, что подтверждается и экономическими показателями: уже в 1993 г. ВВП этих стран достиг почти 876 млрд дол., что более чем в 2 раза превышало общий ВВП стран АСЕАН. У КНР, Гонконга, Тайваня и Макао сосредоточены значительные запасы валюты: так, в 1991 г. их совокупный объем у КНР, Тайваня и Сингапура был около 188 млрд дол., т. е. выше валютного резервного фонда Японии, Германии и США вместе взятых. Понятными становятся опасения Японии о том, что подобный потенциал может быть использован Китаем для реализации своих и экономических, и военно-политических амбиций. Тем не менее на данный момент сложно утверждать об окончательном объединении этих стран, их общие интересы затрагивают, помимо экономической, достаточно узкие сферы, к примеру территориальные проблемы.
В 1998-1999 гг. на высоком уровне проблема Сэнкаку не обсуждалась, при подписании Совместной декларации в 1998 г., провозглашавшей установление отношений дружеского партнерства и сотрудничества в области мира и развития, территориальный вопрос затронут ни одной из сторон не был. Тем не менее весной и осенью 1999 г. китайские суда вели разведку на наличие нефтяных ресурсов в районе Сэнкаку. Токио послал запрос в МИД КНР, но не получил внятного ответа. В результате Япония была вынуждена смириться с «китайским вторжением», что дало повод Пекину расширить освоение данных территорий. И действительно, в период с 1997 по 1999 г. береговой охраной Японии зафиксировано большое количество заходов кораблей КНР в зону Японии. Эксперты связывают это с разработкой Пекином «нового энергетического плана», согласно которому Китай должен был приступить к активизации освоения шельфовых запасов нефти. В Токио на эти факты смотрели сквозь пальцы, не желая очередного обострения конфликта с Китаем, однако в крайнем националистическом крыле ЛДП вторжения кораблей ВМС КНР в экономическую зону Японии вызвали бурю протеста. Парламентарии от ЛДП заблокировали резолюцию в поддержку выделения КНР очередного кредита.
В мае 2000 г. произошло очередное обострение территориального спора: члены ультраправой организации «Нихон Сэйнэнся» высадились на одном из островов Сэнкаку для того, чтобы построить синтоистский храм в память о погибших от голода во время Второй мировой войны. Из Пекина срочно последовало требование снести сооружение. Однако позиция Токио была однозначной: «острова Сэнкаку как исторически, так и с точки зрения международного права, несомненно, являются исконными территориями Японии» [29]. Тем не менее обеими сторонами был признан приоритет двусторонних отношений в целом и инцидент был исчерпан.
Последним по времени является конфликт, возникший в сентябре 2002 г., а точнее реакция тайваньской общественности на скандальное заявление бывшего президента КНР и лидера Гоминьдана Ли Дэнхуя: 24 сентября 2002 г. в интервью газете «Okinawa Times» Ли Дэнхуй заявил, что принадлежность островов Сэнкаку Японии является очевидной и с исторической, и с юридической точек зрения. Это заявление вызвало большой общественный резонанс, незамедлительно последовал отклик «большекитайской» прессы. Практически на следующий день первые страницы многих газет прокитайской ориентации пестрели заголовками: «Сэнкаку — это территория Японии!» Члены Патриотической организации Тайбэя также объявили протест против подобного заявления. Перед зданием парламента в Тайбэе они демонстративно избивали чучело бывшего президента [30]. В представительство Тайваня в Гонконге было передано заявление о готовящейся акции протеста. Возмущение общественности усиливал еще тот факт, что в 1996 г. во время беседы с японскими дипломатами Ли Дэнхуй заявил, что с давних времен традиционно район Сэнкаку — это рыбно-промысловая область Тайваня. Осудили поступок президента и побывавшие в 1996 г. на Сэнкаку тайваньские деятели, заявив, что Ли Дэнхуй совершил ошибку, сделав такое заявление, не учитывая мнение Китая [31].
Немаловажно то, что реакция Пекина на подобные заявления оставалась достаточно спокойной, со стороны КНР не было сделано никаких официальных заявлений, хотя в другой ситуации поступок Ли Дэнхуя можно было бы расценить как повод к началу новой патриотической кампании, направленной против Японии. Правительство КНР предоставило свободу действий Гонконгу и Тайваню, оставаясь в тени, хотя больше всего пострадали именно интересы Китая.
Причиной подобного поведения руководящих кругов КНР послужила заинтересованность в расширении экономического сотрудничества с Японией, и следовательно, стремление избежать нового конфликта. Именно поэтому инцидент был исчерпан, скандал не перерос в международный конфликт, а послужил лишь очередным сигналом, напоминающим о существовании проблемы спорных территорий.
Рассмотрев проблему спорных территорий в отношениях между Японией и КНР на примере островов Сэнкаку, становится очевидной важность решения подобных вопросов во избежание значительных конфликтов в будущем. Хотя обе стороны и ссылаются на приоритет экономических связей, но, как видно из истории данного вопроса, в определенных ситуациях экономические интересы отходят на второй план, в такие моменты для обеих сторон, как в 1996 г., существуют лишь собственные амбиции. В таких ситуациях первой идет на уступки Япония, стараясь по возможности не обострять конфликт. КНР также осознает всю важность сохранения дружеских отношений с Японией, так как на сегодняшний день Япония является крупнейшим экономическим партнером Китая: кредиты, предоставляемые японской стороной, оказывают значительное влияние на успешное развитие КНР. Однако, по мнению китаеведа Дж. Сигала: «Китай отвоюет обратно то, что считает принадлежащим ему, даже если при этом будет угроза его экономическому процветанию» [32], но на подобные действия Китай идет только тогда, когда его провоцируют извне, как, например, в 1996 г. конфликт разгорелся по вине японских ультраправых групп. Вопрос в данном случае заключается в том, когда наступит тот момент, когда уверенный в своем военно-политическом и экономическом превосходстве Китай при поддержке «сферы Большого Китая» пойдет на овладение островами силой, не дожидаясь провокационных действий со стороны японских националистов. Большинство исследователей полагают, что данная проблема разрешится лишь будущими поколениями. Действительно, в такой ситуации не следует делать категоричных выводов, однако для дальнейшего развития тесных партнерских отношений и КНР, и особенно Японии придется предпринять шаги по урегулированию данного вопроса, так как КНР все чаще использует проблему Сэнкаку в целях политического давления на Токио. Для успешного разрешения этой проблемы сторонам необходимо отойти от националистических позиций, так как все чаще упоминается о том, что с данной проблемой тесно связаны «поднимающий голову» японский милитаризм и «панкитайский национализм». Возможно, для начала следует лишь урегулировать вопрос об эксплуатации ресурсов и разграничении экономических зон, отложив вопрос о владении. Скорее всего, обе стороны придут именно к такому решению, так как решить проблему сразу можно лишь вооруженным путем. Такой исход событий исключается, так как ни одна из сторон не обладает достаточными возможностями: в случае вооруженного конфликта Японии будет противостоять весь «Большой Китай», поддерживаемый ядерным потенциалом КНР. В Пекине же опасаются поддержки, оказываемой Японии со стороны США, и это является веским аргументом для активизации усилий сторон по мирному урегулированию данной проблемы.

|
Литература
1. Границы Китая: история формирования / Под общ. ред. В. Мясникова, Е. Степанова. М., 2001. С. 433.
2. Богатуров А. Великие державы на Тихом Океане. История и теория международных отношений в Восточной Азии после Второй мировой войны. ^
1945–1995 гг. М., 1997. С. 227.^
3. Колосков Б. Внешняя политика Китая 1969–1976. М., 1977. С. 201.^
4. Границы Китая … С. 434.^
5. Цит. по: Колосков Б. Внешняя политика Китая… С. 218.^
6. Там же.^
7. Там же.^
8. Там же.^
9. Там же.^
10. Там же.^
11. Крупянко М., Арешидзе Л. Внешнеполитическая идеология японского консерватизма после «холодной войны»: значение для безопасности России // Восток. 2001. № 1. С.53.^
12. Цит. по: Есида К. Проблема островов Сэнкаку в японо-китайских отношениях // Вопр. истории. 2000. № 9. С. 148.^
13. Тэйлор Р. Ось Китай – Япония: новая сила в Азии? // Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Реферативный сб. М., 1987. С. 123.^
14. Цит. по: Есида К. Проблема островов Сэнкаку… С. 148.^
15. Тэйлор Р. Ось Китай – Япония… С. 123.^
16. Там же.^
17. Там же.^
18. Арин О. Азиатско-Тихоокеанский регион: мифы, иллюзии и реальность. М., 1997. С. 182.^
19. Цит. по: Границы Китая… С. 438.^
20. Есида К. Проблема островов Сэнкаку… С. 149.^
21. Цит. по: Там же.^
22. Там же.^
23. Там же.^
24. Там же.^
25. Цит. по: Границы Китая… С. 440.^
26. Там же.^
27. Семин А. Что мешает достижению согласия между Токио и Пекином // Проблемы Дальнего Востока. 2001. № 2. С. 38.^
28. Арин О. Азиатско-Тихоокеанский регион… С. 184.^
29. Цит. по: Границы Китая… С. 441.^
30. Okinawa Times. 27.09.2002 ^
31. Там же.^
32. Остроухов В. Внешняя политика Китая в годы реформ // Мировая экономика и международные отношения. 1999. № 3. С. 8–13.^
Научные руководители — ст. преп. С. П. Куликов,
канд. ист. наук, доц. С. А. Комиссаров.
|
|